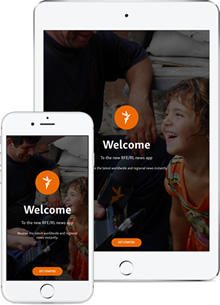Почему и каким образом современное искусство оказалось естественным языком молодых граждан городов России? "Вести из ниоткуда". Равенство спальных районов и промзон в столицах и провинциях. Традиции и новаторство, самоорганизация и конфликт молодых художников и кураторов. Желание социальной справедливости. Инфантильно ли поколение “девяностников”? Исчезновение мира профессий и социальных гарантий. Диана Мачулина: “Я привыкла перескакивать из одного горящего автобуса в другой”. Молодежные войны в провинциях как фон высказывания художников. Северокавказские военные конфликты в произведениях авторов из Владикавказа и Грозного.
В Музее Москвы открылась огромная выставка художников из 14 регионов России.
Социальные проблемы поколения обсуждают Диана Мачулина, куратор и художник; Ксения Голубович, писатель, переводчик, преподаватель Московской школы нового кино; Денис Слащёв, переводчик, журналист (Ижевск); Анна Суворова, искусствовед, куратор, преподаватель Пермского университета. В записи – художник Анна Кабисова, Владикавказ.
Ведет программу Елена Фанайлова
Елена Фанайлова: Хочу оспорить название "Трагедия в углу". Я понимаю, что это цитата из Пушкина, но мне эта деятельность не кажется трагедией. Да, на выставке затрагиваются вполне себе трагические моменты истории, социальных практик, жизни людей, но картина в целом выглядит очень оптимистично, потому что она очень живая, натуральная и естественная.
Ксения Голубович: У меня родилось это название, и я здесь спою такой небольшой панегирик Диане. Эта оптимистическая нота, оптимистическое ощущение общего пространства идет, как мне кажется, из ее усилий. Это человек, поднявший очень большой проект, 14 регионов. А "трагедия в углу" – это даже не темы, которых касаются художники, а положение, из которого все выходили, когда проект начинался: история разрозненности, отсутствия коммуникаций, ощущение того, что каждый в своем углу. У меня было ощущение небольшого пространства, углов, где каждый идет один. Это ощущение даже не загнанности, а глухоты. И "трагедия" – это такое слово, которое заставит услышать. Это не о том, что нам каждый расскажет свою трагедию, а о том, что будет создана звучность, и эти углы выведены как место творения, место высказывания, практически кафедра, с которой художник говорит.
Елена Фанайлова: Я представляют себе сложную геометрию, даже стереометрическую графическую картину.
Диана Мачулина: Нас не слышат, нас не видят. Мы уже говорили про русскую перспективу, обратную, которая сходится на тебе, когда смотрят, наконец, на тебя. Ты – это угол, в котором все сошлось. Но я совершенно не согласна с тем, что это разрозненность. Что меня в аналогичном проекте "Гаража", прошлогоднем, довольно сильно расстроило, то что они на себя берут опять такую властную роль и говорят: мы тут всех со всеми познакомим, мы повелели всем познакомиться, подружиться и наладить связи.
Елена Фанайлова: Давайте спросим у ребят, они чувствуют свою жизнь как "трагедию в углу" – в Ижевске, в Перми?
Анна Суворова: Наверное, находясь в Москве или в Петербурге, очень большой соблазн – представить пространство Екатеринбурга ли, Перми ли, Ижевск ли, многих других городов, таких "медвежьих углов". Но когда мы приезжаем туда, мы понимаем, что это огромные города, с большими музеями и многими другими историями. Другой вопрос, что все эти пространства в силу каких-то социокультурных ситуаций, социокультурной предыстории обладают собственной идентичностью, может быть, странностью, если смотреть откуда-то извне, такой своеобычностью.
Елена Фанайлова: Я бы сказала, даже в лесковском смысле странностью.
Анна Суворова: Люди, которые находятся внутри этой ситуации, мне кажется, не слишком часто и рефлексируют ее как некую изоляцию, ситуацию трагедии внутренней, ситуацию, например, отсутствия коммуникации и внешней связи. Многие художники, философы, писатели обладают такой сверхсамодостаточностью, и мне кажется, это распространенная ситуация.
Елена Фанайлова: За Уральской грядой дело обстоит ровно так, как вы рассказываете. В европейской части больше страданий по поводу Москвы и Питера, больше стремление уехать и примкнуть к московско-питерской части.
Денис Слащев: Ижевск никогда не считался углом, хотя одно время он был закрытым городом, до распада СССР, там производили оружие, поэтому не было коммуникации даже с Советским Союзом. И в нашей книге один из героев, из Ижевска, говорил: "Ну, если вам есть что делать, искусство, делайте это из того, что есть в Ижевске". Это гильзы, автоматы, детали… Да, это очень милитаристичный город, но у нас минимальная преступность с использованием оружия, это все очень сильно контролируется. Искусство в Ижевске есть, и оно в основном этнично. Удмурты, татары, башкиры и русские – это четыре основных народа, и мы не чувствуем себя в углу. Нам до Москвы ехать ночь на поезде, чуть больше, и я не вижу в этом трагедии. Если человек действительно талантлив, если он может что-то представить на суд ценителей искусства, то он может хоть в театре Оперы и балеты сплясать, и может на любой выставке свои картины продемонстрировать.
Елена Фанайлова: А я еще помню, что в Ижевске был знаменитейший фестиваль электронной музыки.
Денис Слащев: Да, столица рэпа, Ижевск называли "русский Детройт", это была середина 90-х. Потом это как-то пошло на спад. Люди стали уезжать в Питер, в Москву, но потом оттуда массово возвращаться. Я сам шесть лет прожил в Питере, получил там неплохую переводческую практику, но я все-таки вернулся обратно, потому что мне там нравится. Это не угол, это довольно большой город. Единственное, что меня напрягает: я увлекаюсь литературой, но в Ижевске нужны инженеры. Эта книга была, по-моему, лучшим моим проектом за всю мою переводческую карьеру, а это около 15 лет.
Елена Фанайлова: Давайте расскажем про конкретные проекты выставки, про ее смысловые узлы.
Диана Мачулина: Я старалась брать тех, которые не бегут, бросая горящий дом, а тушат его и стараются отстроить заново, и гораздо лучше. Я же еще начала заниматься стипендиями художников, и я должна вникать в их быт. И в их отсутствие, пока они не могут сказать, что "у нас все прекрасно", я скажу, что у них все очень плохо. Элемент трагедии здесь присутствует. Это очень возвышенно, что они борются за свою ситуацию, важно, что они создают своего зрителя, всю эту культурную среду, но им очень тяжело. Хотя я знаю, что у вас прекрасно, и мне нравится во многих городах больше, чем в Москве.
Елена Фанайлова: Вы говорите про трудности материального и организационного порядка?
Диана Мачулина: Да, и все организационные исходят из материального.
Анна Суворова: Когда мы говорим о ситуации в Москве и сравниваем ее с пермской или ижевской, мы понимаем, что в силу институциональной поддержки и того количества представителей художественного, культурного сообщества, конечно же, регионы находятся в некотором минусе, если сравнивать с большими городами. И любой одаренный художник, приехав в большой город, без разницы, в Лондон он приедет, в Нью-Йорк или в Москву, он получает больше возможностей. Художники уезжают из Перми, но это ситуация глобальной миграции, когда мы переезжаем с одного места на другое, возвращаемся обратно и так далее.
Денис Слащев: Потому что мы выпускаемся с факультета, понимаем, что, если мы переводчики, филологи, гуманитарии, нам делать в Ижевске нечего. И нам приходится ехать в Санкт-Петербург, в Москву, а кто-то остается. Я за шесть лет жизни в Санкт-Петербурге понял, что мне в Ижевске лучше, комфортнее, спокойнее. Но я не художник, я литератор.
Елена Фанайлова: Но это творческая профессия, гуманитарная профессия, и тут еще большой разговор о состоянии всего гуманитарного поля в стране. И меня поражает, что в стране много и таким властным дискурсом говорится о том, что "не нужно нам современное искусство", и – 14 регионов, которые говорят своим языком, очень внятным, языком, связанным с местной проблематикой, на современном уровне люди рефлексируют то, что с ними происходит, что происходило с их бабушками и дедушками, что происходило во времена военных конфликтов…
Кстати, несколько слово про Северокавказский регион, тут есть несколько очень крутых проектов. Послушаем художника Анну Кабисову, Владикавказ.
Анна Кабисова: Изначально мой проект назывался "Простые люди". Как правило, как бы это ни банально звучало, войны развязывают политики, а страдают обычные люди. И когда я говорила о том, что хочу каких-то историй личных, как люди прошли через конфликт, что они испытывали, какие у них отношения друг с другом, все соглашались, потому что для них это тоже важно, для героев. Понятно, что от войны все устали, и от документальных проектов, освещающих войну, тоже все устали. Мне не хотелось подчеркивать трагедию и делать какие-то трагичные кадры, но вы видите этот темный фон, который намекает, может быть, на некую трагедию. За моей спиной на столице небольшая инсталляция, там есть архивные фотографии, которые я собирала в открытой группе на Фейсбуке, она называется "Был такой город – Сталинир". Сталиниром раньше назывался Цхинвал, и жители города просто публикуют фотографии из своих семейных альбомов, там и 40-е, и 60-е, и 80-е годы, и видно, какой это был прекрасный город, какие в нем прекрасные люди. И есть небольшая серия, которая будет дополняться, это черно-белые полароиды. И небольшой арт-объект – антенна от "Москвича", из этих антенн делали оружие.
Елена Фанайлова: Меня очень удивляет и поражает активность людей, которые способами современного искусства пытаются рассказать нам про конфликт грузино-абхазский, про конфликт грузино-осетинский, про Чечню со всем ее недавним военным пакетом, и так далее.
Диана Мачулина: Чем мне дороги еще художники из регионов, что это какой-то совершенно другой язык. В Москве принято говорить друг с другом на таком интернациональном языке, а для меня всегда важнее был зритель, и мне интересны те проекты, которые говорят о жизни людей, которых я даже не знаю, но которые мне начнут быть после этого интересны. И главное, что это искусство делается не друг для друга и не для прохождения вверх по этой карьере, а оно связано с жизнью людей, со своим контекстом.
Елена Фанайлова: Там видно просто, что люди не могут иначе.
Диана Мачулина: И это самое дорогое.
Денис Слащев: Да, этот заряд, эта энергия чувствуется. Я большинство статей перевел, и для меня было важно сохранить именно стиль статьи, который был в оригинале.
Диана Мачулина: Мы продолжаем говорить на своем особенном языке, но все друг друга понимаем. Северный Кавказ – это самый трагичный регион, если мы посмотрим, про что они там говорят. Одна девочка долго занималась Бесланом, сделала проект про сход ледника в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова, но это была масштабная трагедия, там погибла еще половина конного театра "Нарте", и проект - это не природная трагедия, а трагедия, связанная с распадом связей. Потому что в советское время за ледником наблюдали, были предупреждения, а здесь всем стало все равно. Проект Ани, где она пытается эти связи опять найти, найти не пропагандистские слова о вражде Грузии и Южной Осетии, а она ищет осетин в Грузии, грузин в Осетии, которые говорят, что они этого никогда не желали, они до сих пор эти теплые чувства сохраняют, и почему они остаются именно здесь. Тут еще есть другая линия, линия поколения от 25-летних до 45-летних, кто успел пожить в разных странах – позднем "совке", в выборе энергии 90-х с надеждой на перемены, и потом мы оказались под этим прессом, когда мы начинаем вспоминать советскую справедливость, очень многие из нас, как что-то невероятно светлое. Например, Стас Харин, 1973 года рождения, вспоминает хулиганские времена, у него проект называется "Орджоникидзе – моя звезда". Новое поколение соцарта, которое уже не деконструирует идеологию, а нежно ее собирает по кусочкам, пропуская ее через себя.
Елена Фанайлова: Денис, вы сказали, что вам больше всего понравились материалы из Калининграда, Кенигсберга.
Денис Слащев: Да, они меня впечатлили, арт-группа "Нежные бабы"… Знаете, я мало имею отношения к визуальному искусству, я больше по музыке и по литературе, вот я подумал: что они такое творят? Их фильмы, как они это делают, зачем они это все делают, они все делают настолько нестандартно, что мне показалось это очень выдающимся и ярким.
Елена Фанайлова: Они работают еще с темой войны и памяти.
Денис Слащев: Именно, да, память. Они бросают в море соль в память о моряках-подводниках.
Елена Фанайлова: У них всегда очень многослойные работы, не в лоб.
Анна Суворова: Я хотела бы вернуться к феномену такой странной ностальгии, которая сейчас актуализировалась в поколении 30-летних и даже 20-летних. Я занимаюсь исследованиями, смотрю, что происходит в современном искусстве региона, вижу странную рефлексию по поводу утраченного советского, и это то, казалось бы, чего не должно быть. Как я понимаю, это такая культурная травма, которую переживают до сих пор, и ощущение разорванности в настоящем продолжается.
Елена Фанайлова: Это не столько ностальгия, сколько попытка эту травму перешагнуть. Это называется в антропологии культурной травмой 90-х, она же политическая травма, она же социальная, и ею поражены люди этого поколения – 40 и младше.
Ксения Голубович: Общаясь со студентами, в данном случае не современными художниками, а современными кинематографистами, потому что Московская школа нового кино занимается авторским кино, я вижу, что эти люди довольно много знают про видео-арт, про современное искусство, но они идут в сторону кино, делают кино. С одной стороны, у них глубокое незнание Советского Союза, то есть там надо перебирать буквально по пятилетиям, что происходит, очень плохое понимание, а с другой стороны, то, что они помнят в рамках своего детства, они это не очень ценят. Мы были на выставке в Музее декоративно-прикладного искусства, посвященной советскому дизайну, и как по-другому они посмотрели, когда поняли, на фоне чего этот дизайн делался – на фоне большой военной промышленности, по принципу военной промышленности, где каждую пумпочку надо было согласовывать, как будто ты атомную бомбу делаешь, а не кресло. И когда ты начинаешь рассказывать эту историю, вдруг начинает возникать понимание того места, где они находятся. А с другой стороны, есть это ощущение, что прошлое надежнее.
У меня есть ощущение, глубокое, что это проблема не прошлого, а проблема будущего, что очень плохо из этой точки сейчас мы вообще понимаем, куда мы движемся, и где наше будущее. Потому что тот проект 90-х, который рванул в будущее, и всем казалось, что мы уже практически в будущем, такой футуристический был проект, вот это будущее закончилось, мы пережили конец будущего. И дальше мы оказываемся в ситуации, когда, с одной стороны, прошлое как прошлое, как историческое прошлое, оно практически неизвестно, а есть какой-то объем времени, который как бы в наследии, в распоряжении. И у меня ощущение, что это не только российская проблема, что это то самое глобальное время, где будущее на часах мировых остановилось, и мы не представляем себе будущее. В этом смысле художники не делают что-то типично советское в своих формах, но это часть тоже мировой ситуации.
Елена Фанайлова: Чем объясняется эта поколенческая травма 90-х, например, психологами, с которыми я говорила? Поколение, чье детство пришлось на 90-е, воспринимают их как травму, потому что они не были взрослыми людьми. Ребенок видит неуверенность родителей, социальную незащищенность, и он острее это воспринимает. Например, я очень легко отношусь к опыту 90-х, потому что была уже взрослым человеком тогда, вызовы принимала открыто, для меня это не было травмой. Еще раз говорю, это не ностальгия, а попытка работы со временем.
Вы в своих теоретических текстах всячески отталкиваетесь от понятия "колониальное": мы делаем выставку, которая к колониальному искусству, к колониальному подходу не имеет никакого отношения. Что имеется в виду под этими представлениями?
Диана Мачулина: Ну, собственно, наконец, не позволять говорить о себе, а дать слово… Ведь каждый должен пройти фильтр Москвы, здесь все должно быть ратифицировано, утверждено, эти хорошие, эти плохие, этих слушаем, этих нет, эти подходят, эти в тренде, а этих отбракуем, они странные какие-то. Пусть они говорят сами за себя, дать им прямое слово.
Ксения Голубович: Я поддерживаю Диану. Что такое современный колониализм? Есть метрополия, и тому, что не метрополия, назначается какая-то устойчивая система знаков. Я помню, что у меня был разговор с Ольгой Александровной Седаковой, которая говорила: "Как странно, ваше поколение, вы почему-то считаете себя второсортными. Когда мы шли, мы могли дико бороться с Советским Союзом, но мы знали, что наш семинар по семиотике лучше, чем у Леви-Стросса в Париже. Мы знали, что то, что у Лотмана, это круче. Мы знали, что есть точки первичности абсолютной, которые производятся на нашей территории. Почему у вас такое глубокое чувство, что вы вторые?" Из этого проистекало многое и в ситуации 90-х, в том числе, когда ты с этого первого места сдвигаешься, и тебе выдается некий ярлык на то, каким ты должен быть, какой тип высказывания идет с этой территории, а какой с другой территории. Мне кажется, сейчас эта ситуация себя изжила, во всяком случае, на территории литературы она уже другая. Диана сказала, что нет какого-то специального ярлыка Урала, ярлыка Перми. И вот эта попытка некой первичности, право на первичность высказывания – мне кажется, это важно.
Денис Слащев: К сожалению, не могу согласиться, все-таки колониализм есть. Если посмотреть, у нас в Удмуртии есть газ, есть все, но Москва это все забирает, а потом наш глава едет в Москву выпрашивать один процент со всего, что забрали. Колониализм есть, и он будет, на нас навешивают ярлыки. Есть слова, которыми обозначаются местные народы, не буду их произносить, это жаргонные слова, и не хочется их произносить. Когда распался Советский Союз, мне было 10 лет, и отличие этого поколения, кто были детьми, мы ничему не удивлялись. Нет хлеба в городе – нам весело, мы берем велосипед, пачку "Беломора", едем к солдатам в часть и меняем сигареты на хлеб, который у них есть всегда. Это было весело. Но мы знали, что нет никакой уверенности, и мы так навсегда и остались детьми. Да, нам около 40 или за 30 лет, но мы никогда не откладываем деньги, мы не доверяем пенсионным фондам, мы не покупаем жилье. Сейчас даже говорят про "поколение арендаторов", людей которые не хотят жить на одном месте. Мы не верим ничему с детства, мы знаем, что завтра родители останутся без работы, в городе не будет хлеба, мы наберем "Беломора" и поедем в армейскую часть менять его на хлеб. Мы так живем до сих пор. Эта инфантильность и этот авось – это осталось. И у нас такая русская цивилизация XXI века, она все построена "на авось". Если человек в 70-х годах знал, что он от рабочего дойдет до мастера через определенное время, захочет – завод ему даст высшее образование, то сейчас этого нет, тебя могут в любой момент с работы выкинуть. И это не трагедия "угла", в Москве тоже такое может быть. У нас нет будущего.
Елена Фанайлова: Этим Москва не отличается от регионов. Не говоря уже о том, что ты выезжаешь в какую-нибудь Капотню и понимаешь, что это ни фига не Москва, и у окраины Москвы гораздо больше сходства с любым провинциальным городом. А мусорные бунты, которые сейчас вокруг Москвы? Ты понимаешь, что это общее место.
Ксения Голубович: Я, кстати, не спорю, колониализм есть, но на уровне искусства есть попытки сказать, что мы не обязаны встраиваться в эти структуры, а мы должны искать другой ход. И в самом социуме есть другой ход. Когда куратор продумывает, как осуществляются связи в стране, через что она соединяется, карта может быть совершенно другой, чем когда ты думаешь из довольно устаревших гуманитарных, риторических, в том числе политических и властных конструкций.
Диана Мачулина: Я, кстати, не согласна, что мы остались инфантильными, у меня противоположный опыт. Именно необходимость постоянно решать меняющуюся ситуацию нас сделала взрослыми. Я пошла работать в 16 лет, я не готова рассчитывать свою карьеру до конца жизни и привязываться к чему-то, поэтому я пересаживаюсь из одного интересного горящего автобуса в другой и еду дальше.
Елена Фанайлова: "Горящий автобус" – интересная метафора.
Денис Слащев: Диана, люди, которым нравится такая жизнь, как у вас, и мне нравится такая жизнь, я тоже считал, что никогда не буду стоять у станка или сидеть на заводе переводчиком, я хотел двигаться, но есть очень много людей, которые хотят стоять у станка, становиться мастером, делать карьеру, и мы не должны их осуждать.
Диана Мачулина: Я против навязывания одной модели.
Денис Слащев: Да, должна быть разные модели, но сейчас всем навязывают именно одну модель – прыгать из одного горящего автобуса в другой. Это я называю инфантилизмом.
Ксения Голубович: Если говорить социологически, везде уходит старый мир, и Диана в данном случае представитель современного общества. Современное искусство характеризуется тем, что оно аналитично, оно пытается нащупать точку, где мы можем завязать разговор и выйти к зрителю. Каким образом современное искусство может ставить вопросы перед человеком, перед его внутренним миром, помогать ему работать с этим? Когда художники работают в своей среде, мои, например, любимые художники на Урале – это "Куда бегут собаки", такая группа, они интересным образом ставят вопросы и заставляют задуматься. И это неслучайно, что современный мир пытается свойствами культуры. Средствами гуманитарными уже идти в эти проблемы. Можем мы или нет – это другая история, но мне кажется, что эти попытки разговора, как меняется мир, как мы меняемся вместе с ним, с чем мы сталкиваемся, какие у нас проблемы, дать этому средства выражения – это, мне кажется, важно. Это то, куда, собственно, бьет искусство и зачем оно.
Елена Фанайлова: У людей вдруг появляется потребность говорить этим языком, который старшее, консервативное поколение объявляет дефектным и непонятным, а молодежь хочет говорить им. И это видно на пространстве всех этих 14 регионов.
Анна Суворова: Когда мы вспоминаем про Пермь, то вспоминаем такую колоссальную экспансию, устроенную Маратом Гельманом лет десять назад, и это был очень важный пункт, который выявил проблемы и сообщества, и этот кризис коммуникации центра и периферии, если можно так сказать. На 2008 год, когда в Перми начался культурный проект, состоялась большая выставка "Русское бедное", это тоже, кстати, по поводу навешивания ярлыков, интересный маркер. Марат, который выступал как галерист и как политтехнолог, говорил о Перми и о пространстве региона в целом как о традиционалистском месте, где никакого современного искусства нет и не могло быть по определению. Все же знают, что Урал – опорный край державы, тяжелая индустрия и так далее. И по сути этот жест 2008 года показал несамостоятельность регионального художественного процесса, хотя и актуальные художественные практики были, и Фестиваль цифрового искусства в Перми был, и много разных других историй.
Елена Фанайлова: Я помню, что писатель Алексей Иванов был как-то не очень рад тем формам культурной экспансии.
Анна Суворова: Да, это был колоссальный конфликт со стороны местного культурного сообщества, причем не только традиционалистов, потому что совершенно не были учтены те художественные силы, которые были в регионе. С точки зрения Марата было намного удобнее репрезентовать ситуацию экспансии в пустом месте, нежели взаимодействовать с этим сообществом, в котором, в том числе, были художники, занимающимися актуальными практиками. И этот колоссальный конфликт, который существовал, спровоцировал, с одной стороны, появление новой генерации художников из поколения 20-летних, для кого история современного искусства началась в 2008 году, но это спровоцировало, например, и отток художников, которые были с актуальными практиками связаны, потому что они не смогли вписаться в эту модель, которая была предложена как бы из центра. Это, конечно, такая гастрольная история, которая с уходом губернатора Олега Чиркунова завершилась, и началась колоссальная реакция, которая шла прежде всего со стороны власти.
Елена Фанайлова: Но сейчас созданные институции существуют? Там же существует Музей современного искусства, галереи.
Анна Суворова: В период пермского культурного проекта, это примерно три-четыре года, существовала колоссальная фестивальная активность, это были фестиваль "Живая Пермь", фестиваль "Белые ночи", которые собирали в течение двух-трех недель до миллиона человек на разных площадках. Приезжали десятки проектов, они показывались в течение этого короткого времени. Культурная политика, ориентированная на фестивальный формат, тормошила и подстегивала пермское культурное сообщество к самоорганизации, но это не обеспечивало устойчивости деятельности этих организаций. Музей современного искусства и Пермская арт-резиденция продолжают свою деятельность, к счастью, но фестивальные форматы почти полностью ушли или переродились в достаточно традиционалистские истории. И это говорит о по-прежнему странной коммуникации между центром и периферией.
Ксения Голубович: Здесь есть два момента. Когда территория воспринимается как пустая, и туда приходят люди, которые как-то эту территорию видят, ее транслируют, трансляция идет через наиболее травматичные точки, показывая то, что люди и так знают, – это воспринимается, безусловно, как агрессия в том мире, где ты живешь, который и так не прост. И второй вопрос о том, можешь ли ты работать в рамках этого мира и сделать его лучше, как средствами современного искусства ты можешь перестраивать наррацию места. Это очень серьезный вопрос, и я думаю, что изначально для этого такой проект задумывался. И наррация места, которая шла через Пермь, транслировала себя в этих фестивалях, это была большая победа самого места, самой этой вот площади и другого подхода. Информация традиционно распространялась из центра, и если копаться в истоках, откуда есть и пошло современное искусство в каждом регионе, ты обязательно узнаешь, как оно зарождалось и откуда шло. Урал не бедное место, там есть уральский рок, оттуда пришел Балабанов, один из ведущих современных режиссеров и художников высокого уровня, современный танец и очень много всего. Это не бедное место, но это трудное место. Я думаю, один из удачных проектов взаимодействия с центром – это Индустриальное бьеннале в Екатеринбурге. И здесь вопрос уважения, вопрос коммуникации, которая построена на том, чем само это место может поделиться, чем само это место сильно. Не надо ему навязывать что-то, что ты там думаешь, что там должно быть.
Анна Суворова: Пример с Уральской бьеннале – это действительно ситуация, когда были отрефлексированы те конфликты и те смыслы, которые существовали именно в данном пространстве, вот этот разлом между индустриальным и постиндустриальным, ситуация взаимодействия разных городских сообществ. Уральская бьеннале развивается горизонтально, как система горизонтальных связей, и мы видим, что центры и проекты Уральской бьеннале возникают не только в Екатеринбурге, они перемещаются по всему Уралу, и в Первоуральске, и в Перми были проекты, которые включены в сеть Уральской бьеннале.
Диана Мачулина: Вот про требование позволения быть другим, право на анархию. По мотивам романа дизайнера и викторианского социалиста Уильяма Морриса, Люда Баронина из Краснодара посвятила его роману "Вести из ниоткуда" свой проект, где она требует права и уважения к братьям нашим меньшим. У нее есть серия про освобожденные овощи, а ведь это же аграрный регион, и она просит дать им свободу, чтобы они могли трудиться, у них была своя культура, спорт, наука. Она показывает историю архитектуры, которая подобна нашей, но маленькая, насекомых и пресмыкающихся. И центральный, может быть, момент – это такие фотографии, якобы винтажные, счастливых монстров, которым наконец-то позволили быть собой. Вот свадьба кентавров, они такие тяжеловозы, крестьяне в деревне, и люди там между ними стоят. То есть некое счастливое существование, когда от тебя не требуют соответствовать ненавистному тебе стандарту. Там же и русалки, и сатиры на пляже, кентавры-хиппи играют на гитаре у палатки… То есть это борьба за право быть собой.